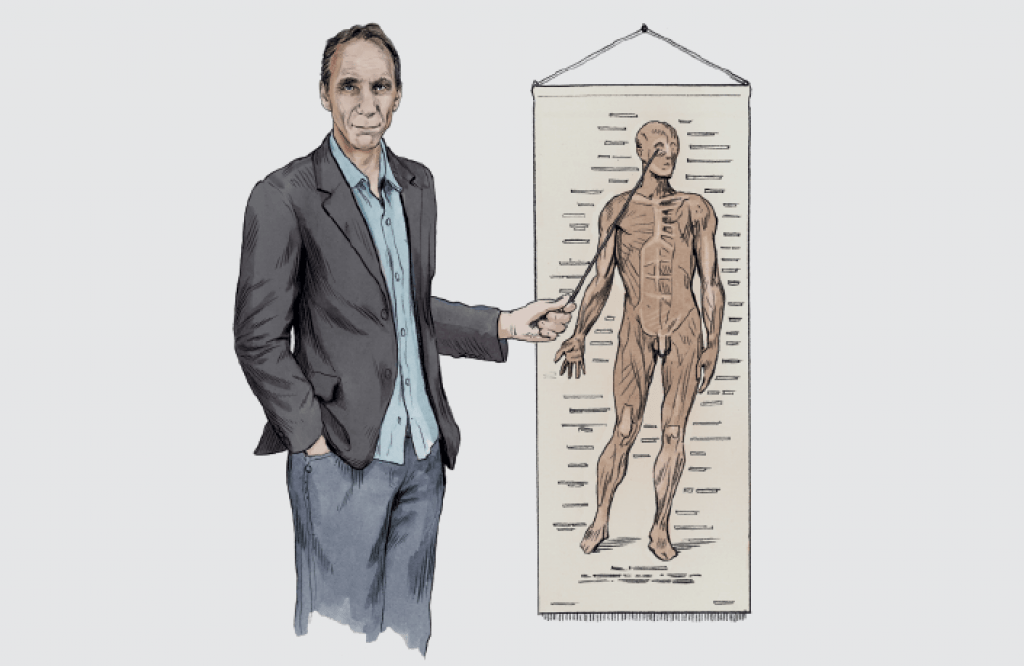 Однажды в зимний денек много лет тому назад я стоял около благотворительного магазина «Оксфам» в Хемпстеде, на севере Лондона. Точность, с которой я определяю свое местоположение, как вы вскоре убедитесь, весьма существенна. Ну так вот, значит, стоял я там, баюкая на руках своего новорожденного племянника, покуда его папаша, большой любитель творить добро, проверял, нет ли в этом магазине чего‑нибудь такого, что он мог бы купить, упаковать в сумку и оставить перед другой лавкой, торгующей секонд-хендом. Я стоял, придерживая головку младенца своей рукой – так оно полагается, если вы держите на весу дитя, – и переводя взгляд с этой самой руки на его крошечную и чрезвычайно нежную ручку.
По мнению антрополога Клода Леви-Стросса, наше понятие о красоте тесно связано с малыми размерами, так что, хотя большая дееспособная рука вполне может выглядеть привлекательно, у ручки хрупкой и миниатюрной гораздо больше шансов вызвать наше восхищение. Как бы то ни было, я стоял, изумляясь контрасту между ручкой племянника и моей собственной лапищей, и тут легкое перемещение по тротуару моих больших неуклюжих ног повлекло за собой результат, который принято обозначать словом «споткнуться». Да, я споткнулся. Споткнулся и начал падать на тот самый тротуар лицом вниз, уже в первые несколько миллисекунд своего падения осознав, что в роли буфера между мной и твердым дорожным покрытием суждено выступить тонкой, как яичная скорлупа, черепушке моего обожаемого юного родственника.
Вот почему я так точно назвал вам место, где все это произошло: ведь одно дело прикончить своего младенца-племянника, споткнувшись по идиотской случайности где‑нибудь в Стейнсе или Солсбери (или, допустим, в Шерли, этом уродливом пригороде Бирмингема), и совсем другое – разбрызгать его мозги по благородной плитке в сем тенистом аристократическом предместье.
Ну так вот, все эти мысли пронеслись в моей голове, пока мы стремительно летели вниз, и мне приятно сообщить, что решение вклинить свою руку между холодным камнем и трагически уязвимым родничком моего племяша было сознательным. Но почему? Почему сознательно пожертвовать своей драгоценной рукой ради спасения жизни малютки племянника лучше, чем сделать это инстинктивно? Подобные вопросы затрагивают самую суть человеческой природы, но у меня не было времени на философские экзерсисы, ибо там был тротуар, здесь – моя конечность, а затем последовало столкновение, тяжесть коего почти целиком пришлась на большой палец моей правой руки.
Когда я с трудом поднимался на ноги – младенец не потерпел ни малейшего ущерба, но орал как подрезанная свинья, – мой брат вышел из магазина. Насколько я помню, наши взгляды сфокусировались на упомянутом выше пальце буквально в одну и ту же секунду, и мы оба истерически захохотали. Почему? Да потому, что моя кисть подверглась кардинальной реструктуризации и большой палец теперь торчал вверх и в сторону под углом в 45 градусов ко всем остальным. Мы часто читаем о сломанных конечностях, что они торчат «под неестественным углом», но геометрическое расположение моего большого пальца было поистине сверхъестественным. Видимо, мы с братом синхронно подумали, что человеческая рука не может быть преобразована таким манером иначе, нежели – простите мне этот убогий каламбур – в умелых руках даровитого хирурга с садистскими наклонностями.
Еще с минуту мы продолжали истерически хохотать; брат взял у меня своего сына; удивительная рогулька, в которую превратилась моя рука, по‑прежнему оставалась средоточием нашего болезненного внимания. А затем я совершил нечто такое, на что раньше не считал себя способным, отважился на оперативное вмешательство, заставившее меня подозревать, что мое истинное призвание – оказывать первую помощь пострадавшим на поле боя: я взялся за свой вывихнутый палец, нажал, и он с довольно громким щелчком занял привычную для себя позицию. У его основания появилась легкая опухоль, державшаяся несколько дней, но и только; я пережил эту жуткую деформацию, после чего стал относиться к своим рукам с еще большим благоговением, чем прежде.
Мои пальцы гладят и ласкают, они чувствуют мельчайшие особенности кожи моей возлюбленной, умеют щупать, мять и указывать. Мои пальцы сжимают инструменты, с помощью которых я манипулирую этим миром… Ну ладно, согласен, два первых дифирамба моим рукам еще имеют какой‑то смысл, но третий – полная чушь: за все двадцать тысяч дней своей земной жизни я не научился владеть даже гаечным ключом.
В научной среде до сих пор принято отличать и людей, и наших ближайших родичей, человекообразных обезьян, по наличию противопоставленного большого пальца, что и позволяет нам орудовать гаечными ключами. Но если откровенно, по части употребления рук мои вкусы совпадают с обезьяньими, поскольку мне тоже чрезвычайно нравится ухаживать за другими обезьянами – если под словом «ухаживать» в широком смысле мы будем разуметь в том числе и любовные игры, а в обобщенное понятие «обезьяны» включим человеческих особей женского пола.
Знаменитый поэт Кольридж, в 1798–99 годах посетивший горный хребет Гарц в Германии, пришел к выводу, что немецкий язык хранит память о нашем четвероногом прошлом, ибо перчатки именуются на нем «ручными ботинками» – Handschuhe. Не знаю, прав ли он, зато я знаю другое: в умах тех обезьян, за которыми мы так любим ухаживать, связь между человеческими руками и ногами до сих пор остается крайне тесной. Кто из нас в глубине души не поражался тому, с каким трепетом женщины относятся к своей обуви и какую цену они готовы платить за предметы, которые на немецком вполне могли бы называться Fuss-handschuhe – «ножными перчатками»? Но позвольте спросить, что лучше: самые головокружительные туфельки на шпильках или кольцо с бриллиантом? Мы благоговеем перед руками, тем более что они всегда на виду, и охотно побуждаем дам к их украшению.
«Che gelida manina…» – поет Рудольф в первом действии «Богемы» Пуччини. И правда, есть ли на свете что‑нибудь соблазнительней холодной ручки, особенно если другим концом она прикреплена к теплой и весьма приятной на ощупь девушке? Та история в Хемпстеде давно канула в прошлое, но рука, сыгравшая в ней столь важную роль, при мне и сегодня. Да и руки моего племянника тоже остались при нем и сейчас гуляют где‑то по миру, нещадно озоруя, – во всяком случае, я на это надеюсь.
Однажды в зимний денек много лет тому назад я стоял около благотворительного магазина «Оксфам» в Хемпстеде, на севере Лондона. Точность, с которой я определяю свое местоположение, как вы вскоре убедитесь, весьма существенна. Ну так вот, значит, стоял я там, баюкая на руках своего новорожденного племянника, покуда его папаша, большой любитель творить добро, проверял, нет ли в этом магазине чего‑нибудь такого, что он мог бы купить, упаковать в сумку и оставить перед другой лавкой, торгующей секонд-хендом. Я стоял, придерживая головку младенца своей рукой – так оно полагается, если вы держите на весу дитя, – и переводя взгляд с этой самой руки на его крошечную и чрезвычайно нежную ручку.
По мнению антрополога Клода Леви-Стросса, наше понятие о красоте тесно связано с малыми размерами, так что, хотя большая дееспособная рука вполне может выглядеть привлекательно, у ручки хрупкой и миниатюрной гораздо больше шансов вызвать наше восхищение. Как бы то ни было, я стоял, изумляясь контрасту между ручкой племянника и моей собственной лапищей, и тут легкое перемещение по тротуару моих больших неуклюжих ног повлекло за собой результат, который принято обозначать словом «споткнуться». Да, я споткнулся. Споткнулся и начал падать на тот самый тротуар лицом вниз, уже в первые несколько миллисекунд своего падения осознав, что в роли буфера между мной и твердым дорожным покрытием суждено выступить тонкой, как яичная скорлупа, черепушке моего обожаемого юного родственника.
Вот почему я так точно назвал вам место, где все это произошло: ведь одно дело прикончить своего младенца-племянника, споткнувшись по идиотской случайности где‑нибудь в Стейнсе или Солсбери (или, допустим, в Шерли, этом уродливом пригороде Бирмингема), и совсем другое – разбрызгать его мозги по благородной плитке в сем тенистом аристократическом предместье.
Ну так вот, все эти мысли пронеслись в моей голове, пока мы стремительно летели вниз, и мне приятно сообщить, что решение вклинить свою руку между холодным камнем и трагически уязвимым родничком моего племяша было сознательным. Но почему? Почему сознательно пожертвовать своей драгоценной рукой ради спасения жизни малютки племянника лучше, чем сделать это инстинктивно? Подобные вопросы затрагивают самую суть человеческой природы, но у меня не было времени на философские экзерсисы, ибо там был тротуар, здесь – моя конечность, а затем последовало столкновение, тяжесть коего почти целиком пришлась на большой палец моей правой руки.
Когда я с трудом поднимался на ноги – младенец не потерпел ни малейшего ущерба, но орал как подрезанная свинья, – мой брат вышел из магазина. Насколько я помню, наши взгляды сфокусировались на упомянутом выше пальце буквально в одну и ту же секунду, и мы оба истерически захохотали. Почему? Да потому, что моя кисть подверглась кардинальной реструктуризации и большой палец теперь торчал вверх и в сторону под углом в 45 градусов ко всем остальным. Мы часто читаем о сломанных конечностях, что они торчат «под неестественным углом», но геометрическое расположение моего большого пальца было поистине сверхъестественным. Видимо, мы с братом синхронно подумали, что человеческая рука не может быть преобразована таким манером иначе, нежели – простите мне этот убогий каламбур – в умелых руках даровитого хирурга с садистскими наклонностями.
Еще с минуту мы продолжали истерически хохотать; брат взял у меня своего сына; удивительная рогулька, в которую превратилась моя рука, по‑прежнему оставалась средоточием нашего болезненного внимания. А затем я совершил нечто такое, на что раньше не считал себя способным, отважился на оперативное вмешательство, заставившее меня подозревать, что мое истинное призвание – оказывать первую помощь пострадавшим на поле боя: я взялся за свой вывихнутый палец, нажал, и он с довольно громким щелчком занял привычную для себя позицию. У его основания появилась легкая опухоль, державшаяся несколько дней, но и только; я пережил эту жуткую деформацию, после чего стал относиться к своим рукам с еще большим благоговением, чем прежде.
Мои пальцы гладят и ласкают, они чувствуют мельчайшие особенности кожи моей возлюбленной, умеют щупать, мять и указывать. Мои пальцы сжимают инструменты, с помощью которых я манипулирую этим миром… Ну ладно, согласен, два первых дифирамба моим рукам еще имеют какой‑то смысл, но третий – полная чушь: за все двадцать тысяч дней своей земной жизни я не научился владеть даже гаечным ключом.
В научной среде до сих пор принято отличать и людей, и наших ближайших родичей, человекообразных обезьян, по наличию противопоставленного большого пальца, что и позволяет нам орудовать гаечными ключами. Но если откровенно, по части употребления рук мои вкусы совпадают с обезьяньими, поскольку мне тоже чрезвычайно нравится ухаживать за другими обезьянами – если под словом «ухаживать» в широком смысле мы будем разуметь в том числе и любовные игры, а в обобщенное понятие «обезьяны» включим человеческих особей женского пола.
Знаменитый поэт Кольридж, в 1798–99 годах посетивший горный хребет Гарц в Германии, пришел к выводу, что немецкий язык хранит память о нашем четвероногом прошлом, ибо перчатки именуются на нем «ручными ботинками» – Handschuhe. Не знаю, прав ли он, зато я знаю другое: в умах тех обезьян, за которыми мы так любим ухаживать, связь между человеческими руками и ногами до сих пор остается крайне тесной. Кто из нас в глубине души не поражался тому, с каким трепетом женщины относятся к своей обуви и какую цену они готовы платить за предметы, которые на немецком вполне могли бы называться Fuss-handschuhe – «ножными перчатками»? Но позвольте спросить, что лучше: самые головокружительные туфельки на шпильках или кольцо с бриллиантом? Мы благоговеем перед руками, тем более что они всегда на виду, и охотно побуждаем дам к их украшению.
«Che gelida manina…» – поет Рудольф в первом действии «Богемы» Пуччини. И правда, есть ли на свете что‑нибудь соблазнительней холодной ручки, особенно если другим концом она прикреплена к теплой и весьма приятной на ощупь девушке? Та история в Хемпстеде давно канула в прошлое, но рука, сыгравшая в ней столь важную роль, при мне и сегодня. Да и руки моего племянника тоже остались при нем и сейчас гуляют где‑то по миру, нещадно озоруя, – во всяком случае, я на это надеюсь.
Перевод Владимира Бабкова. Иллюстратор Джо Маккендри.
Не забудьте подписаться на текущий номер
