Esquire публикует рассказ российского журналиста, поэта и писателя, cоздателя и президента передвижного поэтического фестиваля «ПлясНигде» Андрея Филимонова из сборника прозы «Выхожу один ja на дорогу», который готовится увидеть свет в «Редакции Елены Шубиной».

Его звали Ибрагим. Он был моим старшим товарищем. Когда мы познакомились, ему было двадцать два года. Он заканчивал университет и серьезно пресытился жизнью. Он рассказывал мне, что в верхнем ящике его письменного стола всегда лежит намыленная веревка со скользящей петлей. Ибрагим говорил, что примеряет ее перед сном. Мне в то время было восемнадцать. Я боялся смерти и повесток из военкомата.
Ибрагим писал стихи. Мне вспоминается один нервный верлибр, где автор сравнивает лампочку без абажура с проституткой. Стихотворение называлось «Голый свет».
Маменька Ибрагима, не помню, как ее звали, была профессиональным сторожем, она работала в ВОХРе. Поэтому через два дня на третий их маленькая квартира освобождалась для приключений.
Чаще всего это были приключения духа. Мы пили разбавленный спирт и говорили о женщинах:
— Ты уже потерял невинность? — спрашивал Ибрагим.
— Потерял.
— Это хорошо. Жаль, что ее можно потерять только один раз.
— Ну, в первый раз у меня не получилось…
— Главное, чтобы получилось в последний раз. Ты читал трагедию Коли Пальцева «Последний fuck Кафки»?
— Нет еще. А кто такой Кафка?
Я обманывал старшего товарища, невинность оставалась при мне. Пьянствуя, мы слушали виниловые пластинки. Ибрагим гордился своей коллекцией фирменных лонгплеев и сорокапяток. «Здесь муха не еблась!» — говорил он, торжественно доставая из конверта черный блестящий диск. И я невольно представлял себя этой мухой, парящей над девственной пустыней винила, начиненного музыкой и радостью. Уровень громкости выводился на максимум.
Мы выпивали еще по стакану разжиженного алкоголя, и тогда Ибрагим начинал орать, перекрикивая музыку.
— Я хочу вонючую еврейскую принцессу! Хочу маленькую китайскую девочку!
От спирта черты его лица заострялись, он становился похож на ежа, на маленького ежа-татарина с умными глазами. Мы закусывали холодными макаронами.
Потом мы играли в карты, Ибрагим закуривал папиросу, я тоже закуривал с видом заядлого курильщика, и меня начинало тошнить, как девочку. Сидя на диване, я равнодушно смотрел, как мой буйный товарищ размахивает столовым ножом у меня над головой.
— Сейчас перережу тебе горло от уха до уха!
Они жили в двухэтажном деревянном бараке с замшелой крышей и грязными окнами, где пили все, за исключением матери Ибрагима. С похмелья старики играли в домино. Игра начиналась рано утром, в любую погоду. Старики ставили табуретки и растопочные чурки вокруг огромной мясницкой плахи, иссеченной топором. Когда-то эта штука стояла на центральном рынке. Кто-то из доминошников до пенсии был рубщиком мяса. Теперь они забивали виртуального козла, и в жаркие дни, когда от ударов костяшками, казалось, дрожал сам воздух, плаха вдруг начинала испускать душный аромат давней убоины.
Спирт закончился в начале лета. Ибрагим писал диплом, а через два дня на третий встречался с глупой, но симпатичной девицей моего возраста, которую звали Вика. «Жопа — объедение!» — говорил он, закатывая глаза.
Год выдался жарким. В палисадниках расцветали яблони и груши. С улицы просилась в мороженое сирень. Как-то душным июньским вечером мы ели ананасы в шампанском. Мы бросили в эмалированную кастрюлю ледяные кубики вьетнамских ананасов, которые залили бутылкой новосибирской шипучки. Мы — это Ибрагим, Вика и я. Мой друг декламировал стихи Игоря Северянина и Мирры Лохвицкой, непрерывно оглаживая ноги предмета своей страсти.
— Сколько у тебя волос на ногах, — говорил он нежно. — Это потому, что ты еврейка, душистая еврейская принцесса.
— Что же мне их теперь брить? — спрашивала предмет.
— Ни в коем случае! Это ужасно красиво — почти как у меня.
Он закатывал левую брючину, демонстрируя извилистую и волосатую, словно у зайца, голень.
— А у тебя волосатые ноги? — поворачивался Ибрагим ко мне.
Я стеснялся говорить о своих ногах. Мне казалось, что нет на свете человека с более дурацкой походкой. Я старался ходить красиво, не шаркая каблуками, не вскидывая высоко носки обуви своей, и поэтому двигался, как деревянный мальчик из школы для дураков. Субботние дискотеки первого курса были мучительны. Выбрав в темноте партнершу, я знал, что через минуту или две обязательно наступлю ей на ногу. И напряженно молчал, ожидая, когда это произойдет. «Извините, — говорил я. — Это у меня после госпиталя». Тонкий намек на участие в каких-то боевых действиях. Травмированная девушка обычно пропускала его мимо ушей и сматывалась из моих объятий. Один раз мне ответили: «Что ж вы не долечились?», и еще помню злобную реплику: «Вынь пулю из головы!».
— У них нет воображения, — говорил Ибрагим, когда я жаловался на свои неудачи. — Зато у них есть кое-что получше. Правда, Ника? — он засовывал руку между больших ляжек лениво лежащей на диване Вики. Девушка смеялась.
— Почему Ника?
— Потому что Виктория — это клуб…— язык Ибрагима исчезал у нее во рту. — …Ника, она же Победа, богиня без головы. Зачем ты носишь на титьках эту сбрую?
«I have been in You, baby» — глумился надо мной Ф. Заппа из высоких колонок. Окно было распахнуто, но цветущая яблоня и пестрая ситцевая занавеска скрывали нашу оргию (мое участие — мысленное) от взоров бывших бойцов скота. Эти морщинистые мясорубы курили «Любительские» папиросы, которые воняли еще хуже, чем «Беломор» Ибрагима. Я сидел на ковре, глядя в тарелку с размокшими ананасами, завороженный, не в силах уйти, ни посмотреть в тот угол, где скрипел диван.
— Перестань! — просила Виктория. — Что ты издеваешься над своим другом?! — Она казалась мне ангелом, подняв голову, я видел что-то розовое, пышное, как тесто, которое девушка сердито обеими руками упрятывала в платье.
— Ягодка! — смеялся Ибрагим. — Пусть мой друг унаследует мою изощренную сексуальную технику. Тебе жалко? Пусть его девушки будут визжать от удовольствия, как ты это делала третьего дня, моя волосатая свинка.
— Я ухожу, — грозила Виктория.
— Ну, уходи, но знай, как только ты повернешься ко мне спиной, я пну тебя ногой по жопе.

Пнуть! О, Господи! Да хотя бы увидеть ее один раз без покровов. Тогда девы еще не носили стрингов, не обнажали публично пупков. Зато они редко брили подмышки. Случалось, что какая-нибудь одна становилась рядом в общественном транспорте, поднимала руку, чтобы держаться за поручень, и взгляду открывался кустик волос на краю нежной впадинки.
Какая это была работа для воображения. «То, что вверху, подобно тому, что внизу», — думал я. И моментально возбуждался, дикий юноша эпохи загнивающего социализма. Подмечая родинки, волоски, припудренные прыщики, считая веснушки на плечах рыжих купальщиц (пляжи — это безумие), я загадывал — вот сколько будет у меня женщин — пятьдесят, шестьдесят…
— Всего-то? Смешно! Только в весенний семестр мы с Колей Пальцевым трахнули четыре комнаты на химфаке. Где-то жило четверо, где-то пять... — Ибрагим подсчитывал на калькуляторе. — Берем в среднем по четыре целых и пять десятых тетки, умножаем… делим на два… Вот — получается девять. А ты говоришь! Надо ставить великие цели.
Когда я начинал застенчиво мечтать о ежемесячной смене партнерш, Ибрагим снисходительно хмыкал.
— Разве что для начала. Пока наберешься опыта, отточишь технику. А потом, я думаю, нормально будет тараканить трех... ну ладно, двух теток в неделю. Грубо считаем, что в году пятьдесят недель, кладем пятьдесят лет половой жизни… Итого — ровно тысяча женщин.
— Ты гонишь!
— Простая арифметика.
— Какие пятьдесят лет?! Ты хочешь сказать, что это бывает до пенсии!?
— А ты как думаешь, если твоя бабушка не разговаривает с тобой о сексе, это значит, что она не трахается с дедушкой?
Сочетание слов «бабушка» и «трахается» было революционным. Сознание отказывалось рассматривать такую возможность. Оно, сознание, защищалось пионерскими доводами, мол, портрет дедушки висит на аллее трудовой славы, благородная седина, орден Ленина… Неужели мы предположим хотя бы на минуту, что этот заслуженный человек, ветеран войны, может сексуально посягать на мою бабушку, заслуженного учителя, ветерана тыла?
— Ей шестьдесят пять лет! — отчетливо произносил я и глядел в глаза Ибрагиму, чтобы он прочувствовал абсурдность своей гипотезы.
— А дяде Коле — шестьдесят семь, и он ко всем бабкам в нашем доме пристает. Сейчас мы спросим у него, — Ибрагим высунулся в окно и крикнул. — Дядя Коля, есть вопрос!
Один из доминошников повернулся в нашу сторону. Мать честная! У него было малиновое блестящее лицо с бесформенным багровым носом, редкие, какие-то бесцветные волосы, а главное — зоб, который вываливался из расстегнутого ворота рубахи и был похож на кусок свежего мяса, носимый пенсионером в память о днях трудовой славы и доблести.
— Дядя Коля, ты сексом занимаешься? — интересовался Ибрагим совершенно каким-то светским тоном. Я в этот момент сжимался от стыдливого ужаса, ожидая начала страшного скандала, криков, драки, крови.
— Чё тебе? — переспрашивал малиновый игрок, поглядывая на зажатые в горсти костяшки.
— Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу роскошным упиться телом, — объяснял Ибрагим не своими словами. — Тебе хочется упиться роскошным женским телом?
Я надеялся, что игрок не поймет, но не тут-то было.
— Ибаться? — дядя Коля приподнялся со своего места с какой-то устрашающей готовностью. Старики хохотали.
— Он молодой красивый, он хочет. А кто ж не хочет? — гомонили старики. — А у него сухостой. Ему его не дает, говорит, уйди, кобелина проклятая! Сами слышали.
Дядя Коля матерно рычал на ехидных. Он так сердился, что я представлял их куриные шеи на доминошной плахе и заслуженный умелый топор в его руках. Удар, и нет головы. Еще удар, и конец страстям старости.
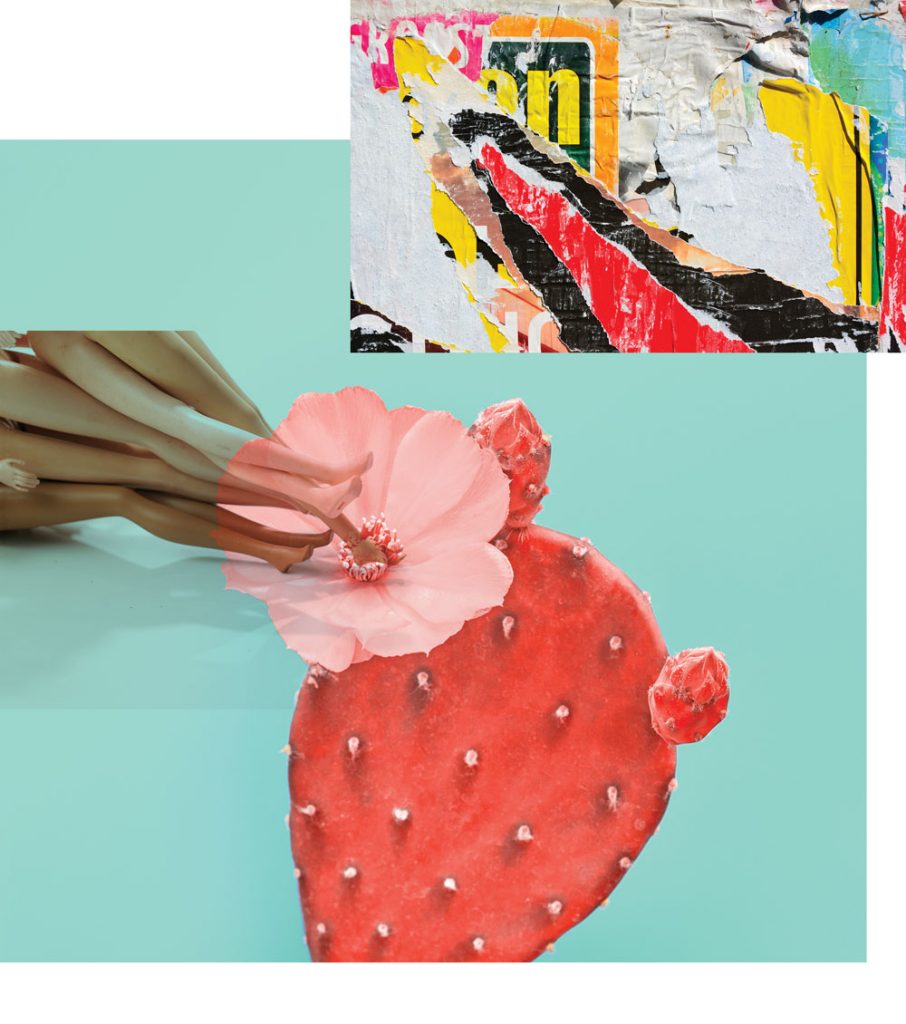
Вечерело. Дядя Коля являлся под окно Ибрагима с табуреткой и авоськой одеколона «Русский лес». Ибрагим радушно выставлял на подоконник три граненых стакана, кусок сала, комок слипшихся ирисок.
— Воды плесни, — учил его дядя Коля. — Будет от бешеной коровы молочко.
Разведенный водой одеколон клубился в стаканах, как густой утренний туман. Я пробовал этот напиток впервые, он оказался нестрашен, разбавленный, был не хуже советского шампанского, входил легко, без тошноты, только через минуту после глотка у меня отнимался язык. Я кивал головой и тихонько мычал, слушая речь дяди Коли, который повествовал о женщинах-работницах рынка, не носивших трусов под белыми халатами, о том, как он с утра до вечера всаживал свою плоть в их горячее мясо.
— Цельный день работал. Порубишь, покуришь, поибешь. Дома только сядешь — Нинка жопой вертит… Вот была жизнь, итить!
Он пил «Русский лес» небольшими глотками, будто старческий вечерний кефир, и горевал вслух, жаловался на то, что его жена болеет суставами второй год и никак не может прибиться к берегу жизни — выздороветь и «пустить в койку», либо пересечь уже смертную черту, и тогда он, «молодой-здоровый» переедет за город, в совхоз «Победа», где работает Валентина, племянница жены, вдова «с сисями».
Дядя Коля ерзал на стуле и лапал красными руками воздух. Мне казалось, что вдова заполняет собой комнату, поддается на ласку, разверзает ложе сна.
И вот уже она везде. Это не слюни дяди Коли летят мне в лицо, это секреты возбужденной вдовы... Мне становилось душно, я пытался куда-то убежать, звенело разбитое стекло, кровь брызгала на ситцевую занавеску, яблоня обнимала меня прохладными ветвями, шептала слова утешения, но от яблони тоже пахло одеколоном… неудержимая рвота…
«Всему лучшему во мне я обязан книгам», — утверждал Максим Горький. А я бы так сказал: «Всему лучшему я обязан пластинкам Фрэнка Заппы, Джоан Баэз, Кшиштофа Пендерецкого, Брайана Ино, Чарли Паркера, Мадди Уоттерса и Александра Вертинского, о существовании которых мне стало известно благодаря Ибрагиму». К тому же он чуть было не познакомил меня с Грэмом Грином. Нет, не с произведениями английского писателя, а с ним самим, лично. Вот как это было.
Я лежал на нечистой больничной кушетке, в руку мою была воткнута игла, посредством которой я сообщался с каким-то медицинским сосудом. Физраствор медленно перебулькивал в мой организм, разжижая кровь, почти свернувшуюся от дяди-Колиного угощения. Моя бабушка сидела рядом с кушеткой на кривоногом больничном стуле, губы ее были возмущенно поджаты. Каждые десять минут она подавала мне эмалированную (чуть не написал «с яблоками») утку, которую я наполнял такой душистой жидкостью, что хоть обратно во флакончики «Русского леса» наливай. По кафельным стенам скакали лохматые солнечные зайцы. Я лежал. Мне хотелось понять, отчего пациенты отделения детоксикации называют белую горячку «белочкой». Но думать было трудно.
Тихая пыльная комната, шаги в коридоре, скрип двери, острая мордочка Ибрагима просунулась внутрь.
— Как дела? — спросил он.
Бабушкин взгляд был страшен, как меч Джедая, но отважный Ибрагим все равно вошел в палату.
— Знаете ли вы, что сегодня вечером в Дом ученых на заседание английского кружка приедет Грэм Грин собственной персоной? Я думаю, надо взять у старикана автограф.
Это сообщение, вышедшее из уст одеколонного пьяницы, потрясло мою книголюбивую бабушку. Разумеется, у нее в библиотеке был весь Грин на русском языке, она читала в местной газете о том, что беспокойный беллетрист решил посетить на старости лет Советский Союз и, в частности, наше засекреченное захолустье. Но она даже не мечтала о личном контакте с писателем. Советские читатели знали свое место.
— Сомневаюсь, чтобы вас пустили. Его наверняка стережет КГБ.
— Пускай стережет. Мы будем тихо сидеть в народном театре, на репетиции, — Ибрагим охотно выкладывал свой план, в котором, оказывается, было место и для меня. — Гэгэ под охраной Кагэбе будут показывать Дом ученых, он зайдет в театр, а там мы, бледные юноши с книжками в руках, кричим «Эй, Джи Джи, пен, плиз!». Но ехать нужно сейчас, пока в ДУ не перекрыли входы и выходы.
— Что ж, — сказала бабушка. — Это дельно. Бегите, юноша, ловите такси. Мы за вами.
Она достала из сумочки клок ваты, продезинфицировала его каплей духов «шанель» и вынула из моей вены иглу.
— Зажми ватку. Вставай. Мы должны заехать к нам на квартиру за книгами, я дам тебе две. Что я, рыжая, оставаться без автографа?
Чувствуя, что в эту минуту мне абсолютно пофиг вся мировая литература, опустив голову, я покорно шел позади бабушки. И вдруг обратил внимание на ее фигуру. Она была совсем даже ничего. Бабушка, оказывается, покачивала бедрами при ходьбе. На ней было импортное крепдешиновое платье с узором из эйфелевых башен, серьги с изумрудами, замшевый поясок, подчеркивающий талию. Она пахла «шанелью».
Мне было плохо от любого парфюмерного запаха, даже самого изысканного, мысли обрывочно скакали: шестьдесят пять лет… заслуженная учительница… Ибрагим прав… Доказательством мог служить мой внезапно вставший член. С эрекцией хорошо отдохнувшего фавна я шел больничным коридором, лавируя среди страждущей клиентелы отделения детоксикации, и в этот момент я понял, что секс... нет, я понял, что бабушка... нет, не так... Я понял, что жизнь гораздо проще, чем я до сих пор о ней думал. И лучше, потому что допускает совокупление в любом возрасте, а не только в 18–25 лет, как мне представлялось. Это было настоящее просветление. Эти трое, Ибрагим, бабушка и дядя Коля, они, не сговариваясь, приземлили мое поэтическое эго в больничном коридоре и лишили его невинности. Было бы глупо сердиться на них. Они ведь этого не хотели. Каждый из них, как водится, хотел чего-то своего, а досталось мне. Я и не сердился, а просто принял жизни чувственный дар.
Таким было мое первое сатори. После него было совсем не обидно, что нам не досталось Грэма Грина. Когда мы с Ибрагимом подкатили на такси к Дому ученых, там кучковалась небольшая группа любителей английского языка (почти все эти люди сейчас выехали в другие страны на ПМЖ), которая тревожно гудела, обсуждая происшествие с Постаментовым, актером-любителем из Народного театра. Как нам было рассказано, Грина привезли в Дом ученых на три часа раньше обещанного. Это был тонкий ход гэбэшников, которые очень боялись, что оборзевшие, потерявшие страх интеллигенты не дай Бог соберутся, устроят провокацию, подадут петицию... Короче говоря, они организовали экскурсию так, что Дом ученых был пуст... Только в фойе тихо дремал, свернувшись в черном кожаном кресле, похмельный актер Борис Постаментов. Был он смуглолицый брюнет, поэтому слился с кожаной обшивкой кресла и остался контрразведчиками не замечен. Когда делегация проходила мимо, Постаментов открыл глаза, присмотрелся к высокой фигуре английского писателя и радостно закричал: — How do you do Mr. Green?
— How do you do? — поздоровался писатель.
Сопровождавшие англичанина замерли, поняв, что вот она, блядь, провокация. Постаментов хотел еще что-то сказать по-английски и даже рот открыл, но не мог больше вспомнить ни слова. Грин из вежливости подождал несколько секунд и пошел себе дальше по розовой ковровой дорожке, лежащей поверх скрипучего доисторического (дореволюционного! — уверял старик-истопник) паркета, слушая вполуха взволнованный рассказ пожилой женщины-переводчика о том, что под крышей этого дома провел одну ночь последний император России Николай (был 1987 год, и о царях начинали говорить с симпатией), и что сейчас она покажет ему комнату, где стояла царская кровать. Пообещав это, женщина покраснела.
А Постаментова тем временем скрутили и увели через черный ход...